- Услуги
- Цена и срок
- О компании
- Контакты
- Способы оплаты
- Гарантии
- Отзывы
- Вакансии
- Блог
- Справочник
- Заказать консультацию
Заказать консультацию
Научное общение
Принцип нераздельности творчества субъекта и его включений в систему социальных связей является одним из важнейших для понимания творческого процесса и творческой личности.
Это положение придает принципиально новую ориентацию конкретному изучению творчества в различных сферах культуры, в том числе и в сфере научной деятельности, позволяет преодолевать субъективизм и индивидуализм в трактовке творческого акта.
Разнообразие неповторимых стилей мышления интеллектуальных ориентации общающихся между собой ученых создает необходимые предпосылки для зарождения и опровержения гипотез и теорий, для решения творческих задач.
Научное исследование представляет собой специфическую форму деятельности, существенно отличную по ряду параметров от других ее форм. Его содержание, структура и динамика предъявляют особые требования к психологическим возможностям личности.
Если способность к мышлению в научных понятиях, к усвоению и применению научных истин есть общечеловеческое свойство, то способность к добыванию этих истин, генерированию новых идей, изобретению методов и т. д. не распределена по людям равномерно.
Научный талант так же редок, как и художественный.
Вместе с тем он, подобно последнему, характеризуется градуированностью, воспитуемостью, специфичностью по отношению к различным предметным областям.
Специфика научной деятельности, ее предмета необходимо должна быть принята во внимание, чтобы объяснить сложность тех многомерных процессов, которые имеют место при общении между учеными.
Научное творчество – многоаспектно. Его предметно-логический аспект выступает перед нами в первую очередь как возникновение и преобразование научных идей. С давних времен хорошо известен и личностный аспект науки. Нашими вечными спутниками являются образы великих ученых, самоотверженно служивших научной истине.
Несравненно менее изучено многообразие социальных связей между людьми науки. Эти незримые связи, как бы ускользающие, неуловимые для поверхностного наблюдателя, при более пристальном рассмотрении оказываются первостепенно важными как для производства знания, так и для личной судьбы каждого отдельного участника.
Так, один из создателей современной физики Джеймс Кларк Максвелл неоднократно указывал, что если бы не его общение с другим физиком – Вильямом Томсоном, то он не смог бы сформулировать свои знаменитые уравнения.
А роль переписки ученых, столкновение взглядов которых не раз рождало “вспышки гения”? А научные школы, в недрах которых идет повседневная кропотливая работа, без которой не было бы ни смелых гипотез, ни великих открытий?
Кто из физиков не знает про Сольвеевские конгрессы, на которых в процессе дискуссий и обсуждений стало привычным то, что некогда даже наиболее передовым ученым казалось абсурдным и диким?
Во всех этих случаях обнажается внутренняя динамика идей, социальной плотью которой является реальное и непосредственное общение ученых и их объединений.
В современную эпоху роль коллективного начала в науке неизмеримо возросла и с каждым днем становится все более важной.
Творческая личность неповторима. Печать уникальности лежит на ее проектах и озарениях. Личностное невозможно изгнать из науки. И вместе с тем научное творчество изначально коллективно, социально. За каждым его проявлением скрыта работа множества умов. Лишь завязывая с первых же шагов в науке все усложняющиеся научные контакты, индивид осваивает нормы и ценности сообщества, членом которого он становится.
Ныне принято говорить, что время одиночных научных талантов безвозвратно ушло в прошлое, что идеи производят теперь исследовательские “комбинаты” и целые “фабрики” знаний. Это суждение верно лишь в том смысле, что ныне изменился характер отношений между индивидуальным и коллективным творчеством.
Острая потребность в непосредственном личном общении между учеными осознавалась ими с тех пор, как возникла сама наука
Представление ученым новых идей, критика и одобрение этих идей на суде своих коллег являются важным фактором как в развитии научных идей, так и в моральном стимулировании ученого.
“Чтобы плодотворно заниматься наукой, – писал “отец” кибернетики Н. Винер, – мне прежде всего нужно иметь возможность обмениваться мыслями с другими учеными”. Сама кибернетика была создана группой ученых разных специальностей. Среди них, наряду с математиками и техниками, были физиологи и психологи.
Они образовали неформальный (не имеющий официального статуса) коллектив. В нем они непринужденно, соответственно своим интересам и способностям, общались между собой, совместно раздумывая о принципах построения новой науки.
П. Л. Капица указывал, что отсутствие адекватной научной общественности в России и невозможность общения с зарубежными коллегами составляли трагедию величайшего русского ученого М. В. Ломоносова.
Как известно, М. В. Ломоносов отрицал возможность действия на расстоянии посредством тяготения или электрического взаимодействия. Считая, что “сколько от одного тела отнимется, столько присовокупится к другому”, он полагал, что тело, приобретающее скорость, должно отнять скорость у окружающей тело среды.
Это вызвало необходимость введения среды с подобными свойствами (Ломоносов постулировал ее существование) и привело Ломоносова к отрицанию универсальной связи между весом и массой тел через ускорение свободного падения, в то время как со времени открытия Ньютона это стало общепризнанным почти всеми учеными законом.
П. Л. Капица объясняет это тем, что М. В. Ломоносов в свое время испытал влияние Христиана Вольфа, ученого с ограниченным физическим мышлением, поставившего в центр механики соударение шаров.
“По-видимому, Вольф не привил Ломоносову элементов конкретного математического мышления, без которого трудно воспринимать механику Ньютона”, – пишет П. Л. Капица (Капица, 1974). Ломоносов “не имел возможности встречаться с такими учеными, как Бернулли и Эйлер, которые прекрасно знали механику Ньютона. Если бы это общение существовало, то не произошло бы этого заблуждения Ломоносова”.
Противоположным примером здесь может служить поездка физика Фарадея по Европе, во время которой он лично познакомился практически со всеми виднейшими физиками Европы, в частности с Ампером, Вольта, Гей-Люссаком, Гумбольдтом, Дюма, участвовал во множестве совместных успешных физических и химических экспериментов совместно с Дейви и другими учеными Франции, Италии, Германии, Бельгии, Швейцарии.
Сам Фарадей, отправляясь в путешествие, писал: “Это начало новой эпохи в моей жизни”. Можно ли представить себе лучший образец общения? Отдалившийся от людей вследствие болезни Фарадей до самой смерти через своего ученика Тиндаля получал полную информацию о состоянии науки того времени.
Наконец, нельзя забывать о переписке Фарадея, например с молодым Максвеллом, в процессе которой оба ученых высказывали суждения, из которых явствует, что они, ощущая нарождающиеся запросы логики развития науки, спешили выразить их и представить на суд друг другу.
Ученые не удовлетворяются той информацией, которая доступна для них посредством обычных публикационных каналов – книг, журналов, статей, справочников и т. п. “Чтобы ученый своими работами мог влиять на коллективную работу, – пишет П. Л. Капица, – необходимо личное общение, необходим живой обмен мнениями, необходима дискуссия, всего этого не может заменить ни печатная работа, ни переписка.
Почему это происходит, не так легко объяснить. Я думаю, что большинство из нас по своему опыту знает, как необходим личный контакт между людьми при согласовании творческой деятельности. Только когда видишь человека, видишь его лабораторию, слышишь интонацию его голоса, видишь выражение его лица, появляется доверие к его работе и желание сотрудничества с ним. По этой же причине никакой учебник не может заменить учителя”.
В настоящее время в связи со стремительной компьютеризацией исследований, развитием кибернетических методов и методов теории информации возникла тенденция отождествлять общение с “коммуникацией”, с процессами “передачи информации”.
Но это крайне одностороннее понимание общения, которое имеет свою психологическую специфику, в том числе – в науке.
Обмен информацией, а также внутренняя критика, обсуждение, моральная поддержка не исчерпывают всего содержания общения.
В процессе общения его участники неосознанно передают друг другу и усваивают те компоненты, которые не могут быть строго формализованы: стиль мышления, подход к проблеме, ощущение перспективности нового направления и Др. Все это “личное знание” (термин, предложенный английским физико-химиком М. Полани) не может быть усвоено и передано без непосредственного общения.
По мнению Полани, для приобщения к науке необходим непосредственный личный контакт между начинающим ученым (“подмастерьем”) и опытным мастером. Без прямого контакта первый не сможет перенять от второго ту часть личного знания, которую нельзя усвоить из книг и без которой в то же время невозможно научное творчество.
Полани отмечает, что среди ученых распространено мнение о научном исследовании как о чем-то совершенно свободном от личностных, в частности эмоциональных факторов. Это может оказать отрицательное воздействие на начинающих научных работников.
Всякое отступление от привычных логических схем, всякий взлет фантазии или интуитивную догадку они начнут отвергать как несовместимые с научными идеалами объективности и рациональности.
Полани проводит различие между расчлененным и нерасчлененным мышлением. Последнее имеет свой особый “внутренний язык”. Чтобы научиться ему, нужно работать с ученым, который уже владеет этой формой мышления, наблюдать за его деятельностью, стремиться подражать ему.
Как бы далеко ни продвинулась формализация умственных процессов, она никогда не снизит ценность непосредственного опыта личности, как и опыта ее прямых контактов с другими людьми (а не только с компьютерами).
Интересно
Соответственно, обогащение и умножение этого опыта является одним из важных условий эффективности научного труда. То, что само знание представляет собой единство формализованного и неформализованного, дает возможность в разных случаях анализировать его разные ипостаси, как, например, рассмотрение света в одних случаях “выгодно” вести с точки зрения волновой теории, в других – с точки зрения квантовой.
Стало быть, как в интеллектуальном плане, так и в мотивационном включенность в систему непосредственных связей с “учителем”, “мастером”, владеющим (хотя бы безотчетно) тайнами творчества, оказывает огромное воспитательное воздействие на начинающего учёного. Таким образом, выявляется определенная противоречивость процесса общения типа “учитель – ученик”.
Только в общении со зрелыми учеными, в наблюдении за их деятельностью, перенимая у них определенные каноны, складывается личность, способная идти своим собственным путем и только поэтому реализовывать свою функцию – внести неповторимый вклад в социальное дело науки.
Это противоречие своеобразно проявляется на различных уровнях взаимодействия между людьми науки, которые всегда учатся друг у друга и претендуют на то, чтобы сказать свое собственное, еще никем не высказанное слово. Нераздельность познания и общения выступает здесь в качестве основного стержня процессов общения.
Прямое (устное) и опосредованное печатным словом общение – это не внешние по отношению к познавательной активности ученого “каналы коммуникации”, свойства которых безразличны для текущих по ним потоков идей (подобно тому, как свойства проводника не влияют на содержание электрических импульсов).
Общение является не только необходимым, но качественно своеобразным фактором научной деятельности, имеющим особое строение и собственные механизмы, неотделимые от механизмов познания и вместе с тем не совпадающие с ними.
Говоря о плодотворности общения типа “учитель – ученик” или “мастер – подмастерье”, мы акцентировали внимание на плодотворности такого типа контактов для “младшей” стороны. Возможно, не меньшее значение имеет “поток общения” обратного направления – от ученика к учителю.
“Те, часто нелепые вопросы, которые задают студенты после лекции, исключительно стимулируют мысль и заставляют с совершенно новой точки зрения взглянуть на то явление, к которому подходим всегда стандартно, и это тоже помогает творчески мыслить”.
Другой не менее важной характеристикой потока общения “ученик – учитель” или “подмастерье – мастер” является то, что общение такого типа активно препятствует “ригидизации” умственных стереотипов, которыми оперирует “мастер”.
По мнению П. Л. Капицы, Резерфорд прекрасно понимал значение, которое для него самого имели ученики. Он говорил: “Ученики заставляют меня самого оставаться молодым”.
В этом заключена глубокая истина, так как ученики не позволяют учителю отставать от жизни, отрицать все новое, что рождается в науке. Как часто мы наблюдаем, что ученые, старея, становятся в оппозицию к новым теориям.
Между тем Резерфорд с легкостью и доброжелательством воспринимал такие новые идеи в физике, как волновая и квантовая механика, к которым в то время ряд крупных ученых его поколения относились необоснованно скептически. Это обычно случается с теми из ученых-одиночек, у кого нет близких учеников, которыми надо руководить и которых надо двигать вперед.
Интереснейшим примером влияния общения на эффективность творческого процесса может служить свидетельство Джеймса Уотсона – одного из тех ученых, кто установил структуру молекулы ДНК – генетического материала клетки.
Биолог Уотсон, увидев на конференции по структуре биологических макромолекул в Неаполе рентгенограмму ДНК, сделанную М. Уилкинсом, понял, что, поскольку рентгенограмма имеет большое число дифракционных максимумов, то это, по-видимому, свидетельствует о ее кристаллической регулярной структуре.
Он понял, что ключ к разгадке тайны гена – это рентгеноструктурный анализ структуры молекулы ДНК в сочетании с химическим. Он устроился на научную работу в Кавендишскую физическую лабораторию (Кембридж), где физик Френсие Крик, бросивший физику ради биологии, под руководством химика Макса Перутца использовал рентгенографию как метод анализа структуры органических молекул.
“С первого же дня, проведенного в лаборатории, – пишет Д. Джеймс, – мне стало ясно, что в Кембридже я останусь надолго. Уехать было бы вопиющей глупостью, так как я лишился бы неповторимой возможности разговаривать с Френсисом Криком.
В лаборатории Макса нашелся человек, который знал, что ДНК важнее, чем белки, – это было настоящей удачей… Наши беседы в обеденный перерыв вскоре сосредоточились вокруг одной темы: как же все-таки соединены между собой гены? Через несколько дней после моего приезда мы уже знали, что нам следует предпринять…”
И далее: “… часто, зайдя в тупик со своими уравнениями, он принимался расспрашивать меня о фагах. Или же снабжал меня сведениями по кристаллографии, собрать которые обычным путем можно было бы только ценой утомительного штудирования специальных журналов”. Совместная творческая деятельность Ф. Крика и Дж. Уотсона проходила в непрерывном общении с Морисом Уилкинсом, в лаборатории которого снимались наиболее четкие рентгенограммы ДНК.
Существенным для нас в этом примере является то, что трое ученых совершенно различного научного профиля, имея общую сферу знаний и интересов, добились в непосредственном общении взаимопроникновения категориальных схем физики, химии и биологии, следствием чего стало величайшее научное достижение – установление структуры носителя наследственности.
Проникая в строй мыслительной деятельности своих собеседников, ученый совершает некоторый “скачок” в своем собственном мышлении, сходный по природе со “скачком” мышления при непосредственном изучении природы изучаемого объекта. Стиль мышления ученого влияет на характер его общения, взаимодействия с учениками.
Характерный пример в этой связи привел академик П. Л. Капица: “Своеобразный характер мышления Резерфорда легко можно было видеть, беседуя с ним на научные темы. Он любил, когда ему рассказывали об опытах.
Но чтобы он слушал с интересом (а по выразительному лицу сразу было видно, слушает он с интересом или скучает), надо было говорить только об основных фактах и идеях, не вдаваясь в технические подробности, которые Резерфорда не интересовали.
Когда мне приходилось приносить ему для утверждения чертежи импульсного генератора большой мощности для получения сильных магнитных полей, то он из вежливости клал перед собой синьку, не обращая внимания на то, что она лежала перед ним вверх ногами, и говорил: “Этот чертеж меня не интересует, вы просто укажите те принципы, на которых эта машина работает”. Основную идею эксперимента он схватывал очень быстро, с полуслова”.
В категориальном строе науки определенного периода представлены в обобщенной форме принципы, проблемы, принятые основными научными направлениями. Категориальная характеристика всего научного направления своеобразно преломляется в неповторимости категориальных профилей отдельных его представителей, субъектов творчества.
Проблема активизации творческого мышления в процессе общения является чрезвычайно актуальной. Об этом свидетельствует эволюция форм научного общения. Эта эволюция привела в XX веке к резкому увеличению удельного веса непосредственных научных контактов ученых, к зарождению таких методов обсуждения и решения научных вопросов, как научные семинары и т. п.
В частности, в Копенгагенской школе теоретической физики у Нильса Бора сложились традиции интенсивного, требующего огромного напряжения от каждого из участников, научного общения. Называющий себя учеником Н. Бора Л. Д. Ландау превратил свои семинары по теоретической физике в Институте физических проблем в интенсивнейший творческий процесс.
Интересно
На семинарах Л. Д. Ландау разрешалось высказывать самые еретические мысли и “набрасываться” на классиков: важно было только, чтобы каждое такое широковещательное заявление было достаточно серьезно обосновано. Участниками семинара Л. Д. Ландау были в большинстве своем его ученики, прошедшие через обязательный кордон “теор-минимума”, т. е. сдавшие Ландау или другому физику девять сложнейших экзаменов.
Таким образом, участниками этого своеобразного брэйнсторминга были люди, прекрасно подготовленные к восприятию и обсуждению сложнейших проблем теоретической физики.
Одновременное наличие тончайшего критика идей в лице самого Ландау позволило семинару сосредоточивать внимание на действительно наиболее интересных проблемах, не останавливаясь на второстепенных или тупиковых.
Ландау выработал, как свидетельствовал П. Л. Капица, крайне своеобразный процесс исследования, основная особенность которого состояла в том, что трудно было отделить собственную работу Ландау от работы его студентов. Трудно представить, как он мог бы успешно работать в столь различных областях физики без них.
В школе Ландау были усвоены традиции общения, столь бережно пестовавшиеся в лучших европейских физических школах (в Кавендишской – у Дж. Дж. Томсона и Э. Резерфорда, в Копенгагенской – у Н. Бора).
Достаточно сказать, что общение было у Л. Д. Ландау настолько интенсивным, что он мог почти не читать физических книг и журналов, черпая информацию у своих студентов и коллег на бурных семинарах по теоретической физике в Институте физических проблем.
“Его постоянный научный контакт со множеством ученых и коллег, – писал после смерти Л. Д. Ландау его друг и ученик Е. М. Лифшиц, – был для Льва Давыдовича также источником знаний. Своеобразная черта его стиля работы состоит в том, что он уже с давних времен – еще с харьковских лет – почти не читал сам научных статей или книг. Тем не менее он был всегда в курсе всего нового в физике. Знание приходило к нему из многочисленных дискуссий, из докладов на руководимом семинаре”.
Сообщество ученых в данной области исследований (например, все физики, представляющие в определенный исторический период эту дисциплину) не является однородным и однотипным по характеру взаимодействия между его членами. В нем консолидируются определенные интеллектуальные центры, различающиеся по силе своего влияния на других исследователей и тем самым на научный прогресс в целом.
Центры, о которых мы говорим, это уже не отдельные ученые, а их группы (как правило, не слишком большие), в силу обстоятельств, требующих специального анализа. Они не только выделяются из сообщества в целом, но даже могут на какой-то момент и противопоставлять себя ему.
В ряде случаев они чрезвычайно активны и способны, утверждая свои идеи и свою программу, с исключительной энергией и настойчивостью занять лидирующую роль в данной дисциплине.
Остальных ученых они постепенно обращают в свою “веру”. Чем же объясняется сила их воздействия? Каким образом они добиваются исключительных результатов? Почему они завоевывают умы и становятся особо притягательными для научной молодежи, которая отличается повышенной чувствительностью к новаторским и оригинальным идеям?
Изучение причин возникновения подобных групп в науке, стиля взаимоотношений внутри них, факторов их сплочения и удивительной эффективности результатов их деятельности сравнительно с достижениями других ученых и коллективов проливает свет на механизмы развития науки в целом.
Среди всего многообразия указанных групп наиболее интересными являются две формы объединения ученых: “незримый колледж” и научная школа.
В каждый момент жизни научного сообщества в нем складываются сложные отношения между идеями и теориями, которые уже приобрели общезначимость и разделяются всеми учеными, – с одной стороны, и идеями, претендующими на то, чтобы войти в основной фонд знания, оттеснив других претендентов, – с другой.
Вторая группа идей представляет передний край подвижного, непрерывно изменяющегося фронта исследований, где прорывы в неизведанное совершаются не в одиночку, а сопряженными усилиями научных объединений – зримых и незримых. “Незримые колледжи”, как уже сказано, это неформальные объединения ученых, включающие представителей различных университетов, научных учреждений, центров.
Члены этих “колледжей” интенсивно общаются между собой, переписываются, обмениваются предварительными результатами исследований, собираются на коллоквиумы и семинары, хорошо знают область деятельности и направление исследований друг друга. Они образуют сплоченную, внутренне связанную социальную группу со своим лидером (как интеллектуальным, так и организационным).
И сроки жизни, и влияние на науку “незримых колледжей” могут быть различными. Интерес к их изучению обусловлен тем, что они возникают, как правило, в моменты прорыва фронта научного знания и утверждения принципиально новаторских научных идей.
В качестве примера может быть указана группа ученых, создавших квантовую механику во главе с Н. Бором как лидером, географическим центром которой был Копенгаген и которая просуществовала приблизительно с 1920 по 1934 г., или группу по изучению фагов, которую возглавил М.Дельбрюк и которая положила начало молекулярной биологии. Эта последняя группа просуществовала в качестве активно действующего “незримого колледжа” с 1947 до 1958 г.
Изучение исторического опыта общения в научных школах и “незримых колледжах” в плане актуализации творческих возможностей отдельных ученых представляет чрезвычайно перспективную область исследований.
Изучение механизмов процесса научного общения в целом, вычленение и соотнесение в нем формализуемых и неформализуемых компонентов, выявление причин, ведущих к нарушению нормальных коммуникаций, и устранение на этой основе барьеров и пробелов в коммуникативных сетях также ждут своих исследователей.
Статьи по теме
Полезные статьи


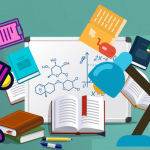




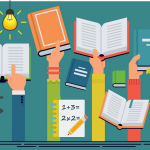

Узнайте цену услуг:
Узнай цену консультации
"Да забей ты на эти
дипломы и экзамены!”
(дворник Кузьмич)

